|
Опубликовано в
литературном альманахе «Третье дыхание», вып.
57, стр. 184-191, Москва, ИНТЕР-ВЕСЫ, 2005
|
Посвящается светлой памяти моего
отца
Отец был молчаливым обо всем, что
касалось фронтовых событий его жизни. С мальчишеских
лет, я пытался вытянуть из него скудные крохи признаний,
чтобы составить представление, каким он тогда был и
почему так скуп на слова.
Лишь когда мне самому уже было за сорок, я стал
понимать, что вернувшиеся живыми, чувствовали себя
виноватыми перед погибшими на их глазах. Они считали,
что им просто повезло остаться в живых, и
героями-победителями они стали только потому, что
миллионы тех за очень многое, о чем лучше молчать, были
вынуждены заплатить своими жизнями. И они молчали…
Победа и вообще война это – не «ура», это не геройство
на людях. Это – совсем другое: умение делать свое дело
честно, с умом, с расчетом на будущее, это –
повседневная работа с нашей русской взаимопомощью,
готовностью подставить плечо именно там и тогда, когда
нужно вместе выдюжить, это – самопожертвование, это
характерное для русских состояние подвига, ведущее свою
родословную от подвижничества. Без крика, без суеты,
буднично, но накрепко и бесповоротно. Насмерть!…
Очень многое из того, что я умею, мне дали они, мои
родители, крестьянские дети. И в первую очередь, отец,
причем он – все так же молча, без суеты, без надрыва,
без лишних жестов и слов.

Он не был, что называется, героем. Однажды на охоте,
когда я выстрелил в белку над его головой, он сильно
испугался и буквально осел в сугроб. Я в 16 лет был
впервые на охоте, но он-то знал, что дробь разлетается
далеко в стороны от линии прицеливания…
Они все знали, все умели, и не их вина, что кто-то
повыше не знал, не умел и не считал нужным этому учиться
изначально, с пеленок, как принято в русском народе (я
не имею в виду этнических русских, я имею в виду всю
нашу Россию).
Сейчас, по воспоминаниям детства и юности, легенде,
которая тогда возникла в моем воображении – по всему,
что еще смогла сохранить моя память, я постараюсь
рассказать от имени отца о фронтовом случае его
«везения» (а курсивом будут даны мои вставки).
Прилагаю его
фотографию, полученную с фронта из Великих Лук в 1943 г.

Июнь 1943 года,
Великие Луки
Это было зимой 1943-1944 г.г. где-то
западнее Невеля. Наш истребительный противотанковый
артиллерийский полк резерва Верховного Командования
находился, как всегда, на стыке армий, но был придан
3-ей Ударной. Обстановка была сложной. Немцы прорвали
нашу оборону как раз на этом стыке, похоже, где-то
впереди расположения моего склада боеприпасов, правда,
сильно опустевшего за время боя, начавшегося еще с утра.
Его шум уже гремел и справа, и слева от меня, потом с
нашей стороны стал смещаться в тыл, разрозненные
выстрелы впереди прекратились. Связь прервалась еще час
назад, за снарядами никто больше не появлялся.
Мимо пробежали пехотинцы и крикнули, что там, откуда
они, уже никого нет, наши пушки давно разбиты, пехота
выбита из траншей, а немецкие танки прорвались в тыл.
Ну, думаю, вот и мне, как говорим мы, белорусы, гамон
(конец, хватит). Попался на третьем году войны. Наш полк
сменил почти полностью свой списочный состав, так что я
сам себя считал сильно задержавшимся. Да и стукнуло мне
уже 38 лет. Почему-то вспомнилось, как в конце 20-х
проходил действительную службу тоже в артиллерии, но с
шашкою на боку. Куда бы я теперь тут с этой шашкой?
Вот так-то, товарищ старший лейтенант, пора заказывать
музыку. А как – я знал точно из инструкции, и надежды,
что удастся унести ноги, было мало. Методично подготовил
склад к взрыву. Потом стал смотреть и слушать, что
делается впереди. А впереди, со стороны соседа, что-то
дымит, рвется, отрывисто лают немецкие танковые пушки, и
тянет таким противно-вонючим ветерком. Немецких танков и
пехоты пока не видно…
Проковыляло мимо еще несколько раненых, я отослал с ними
своего юного помощника с донесением о подготовленном
взрыве склада. На душе как-то пусто, хочется курить, а
курево давно кончилось. Нашел только сухарь, сгрыз.
Проверил спички, они были достаточно сухими, чтобы
поджечь бикфордовы шнуры, встряхнул бензиновую
зажигалку, которую сделали из винтовочного патрона наши
умельцы. – Все в порядке, вот только, когда поджигать?..
Ну, кажется, пора – слышу, как все ближе надрывается
какой-то мотор. Однако сдается, все-таки не танковый, и
не впереди, а сзади и сбоку, со стороны соседа. Точно! –
«Студебеккер», чтоб его, весь расхристанный, кабина без
дверей. Прямо с сиденья ко мне в окопчик возле землянки
лихо слетает капитан в танкистском черном шлеме и
торопливо просит «огурцов» для их пушек, таких же, как
наши. Клянется, что ударят по танкам немцев с фланга и
заткнут прорыв.
Что делать? – Все равно снаряды взлетят на воздух, а
вдруг сосед отобьет? А капитан, чуть не плача, умоляет
подсобить. Я, конечно, как бывший на гражданке бухгалтер
прошу черкнуть расписку, капитан расцветает, сразу на
глазах молодеет, царапает что-то в своем блокноте из
планшетки, я читаю, ставлю нужные цифры, и мы
расписываемся. Облегченно перевожу дух, капитан машет
кому-то рукой, и из ложбинки к моей опушке вылетают еще
три «студера». Вдруг что-то рядом рвануло, меня сильно
засыпало землей. Когда я выбрался из окопа, то отходила
последняя машина, капитан висел на подножке и,
обрадовавшись моему появлению, махнул рукой. Склада, как
не бывало…
Через некоторое время, показавшееся мне вечностью,
где-то недалеко со стороны соседа вспыхнул бой, впереди
меня поднялось несколько взрывов, земля затряслась,
появившиеся сквозь дым сбоку танки загорелись, из люков
попрыгали немцы в черном. Я схватился за наган, такой, с
барабаном, на длинном кожаном ремешке, но выстрелить не
пришлось ни разу – как из-под земли выросло несколько
наших «тридцать четверок» и самоходок, и немецких
танкистов уложили темными пятнами на снегу автоматчики,
соскочившие с брони. Танки ушли не вперед, а вдоль
нашего фронта. Там прогремело несколько взрывов, и
наступила тишина…
К вечеру, сильно устав от поисков, я все-таки нашел свой
сменивший место расположения штаб, где мне сообщили, что
меня разыскивает начальство повыше. Тут только я
вспомнил, что расписка-то осталась в блокноте капитана,
а я ничего о нем не знаю. Вдруг он уже погиб? Мне стало
очень не по себе.
В общем, мое донесение перепроверили, склада не
обнаружили, следов взрыва – тоже. Меня обвинили в
преступной халатности, потом в разбазаривании
боеприпасов, потом, еще, Бог знает, в чем, и передали
дело в трибунал.
Сижу я уже на гауптвахте в землянке при армейском штабе
без погон, поясного ремня и документов и думаю, что, не
появись капитан, был бы я уже давно на том свете, а вам
пришла бы потом почетная «похоронка» о геройской смерти.
А теперь – или расстрел, или рядовым в штрафбат, и что
вы там будете обо мне знать?
Потом стал думать о вас, о последних полученных письмах.
Они почему-то всегда приходят пачками. Сыну скоро семь
лет, не видел его с 41-го. Дочка родилась через
несколько месяцев после начала войны, даже отца не
знает. Маруся одна растит их среди чужих людей, в таком
непохожем на нашу Беларусь суровом краю, на далекой
Вятке…
Всплыли в памяти детство на хуторке отца, лесника в
имении пана в могилевских лесах, духмяный сеновал, лес,
полный грибов, ягод и разной дичи. Жив ли, ладит ли с
партизанами, ведь в колхоз он до войны так и не вступил,
живя далеко в глуши леса?..
А что немецкий прорыв заткнули, так, кто поверит, будто
и старший лейтенант Василий Байдов имеет к этому хотя бы
косвенное отношение? Но имеет ведь! Правда, по пошедшим
по армии слухам оказывается, что немцы уже и так
выдыхались. Полк наш, попав на острие прорыва,
действительно, потерял две трети пушек, выбив все-таки
большинство немецких танков. «Мертвые сраму не имут», и
весь срам-то, оказывается, как раз теперь на мне… Но кто
же тогда сжег, по крайней мере, те танки, что я сам
видел, чьими снарядами?..
Вспомнились первые дни войны, когда я, лейтенант,
призванный из запаса в самом конце финской кампании,
впервые был в бою и видел, как горят эти самые немецкие
танки. Это было во время памятного контрудара в Литве
южнее Шауляя, что не вписывалось в общую картину
внезапности нападения немцев.
А мы были готовы. Уже в среду, 18 июня нас собрали, как
по тревоге, и мы перебазировались в лесные массивы. Там
сосредоточились танки, артиллерия и наш автобат с
машинами, загруженными снарядами и горючим, тоже. Никто
не сомневался, что совсем скоро мы вступим в бой. К
этому нас и готовили командиры двое суток подряд. Но все
равно в воскресенье мы были ошеломлены сообщением, что
война началась, что наши казармы горят, и, главное,
горят и рвутся наши склады, и мы остаемся без боевого
снабжения, что в полной мере мы ощутили очень скоро.
Немец точно знал, где что лежит, стоит, расквартировано,
но нас и нашей техники на старом месте давно уже не
было!
Действительно, мы, дети, с удивлением наблюдали в то
воскресенье, что за рекой Вилией горят казармы
танкистов, что в небе гудят самолеты, а наши матери
мечутся между квартирами и дежурным офицером в штабе
батальона.
В книге из серии ЖЗЛ об И.Д. Черняховском я нашел обо
всем этом и официальные сведения. Оказалось, что 18 июня
1941 г. в 13 час. на основании директивы Военного совета
ПрибОВО командиры 3-го и 12-го мехкорпусов (в первом из
них служил мой отец) приказали «привести в боевую
готовность все части в соответствии с планами поднятия
по боевой тревоге, но самой тревоги не объявлять. Всю
работу проводить быстро, но без шума, без паники и
болтливости, иметь положенные нормы носимых и возимых
запасов, необходимых для жизни и боя». В тот же день
части в полной боевой готовности двинулись в новый район
сосредоточения, ближе к границе с Восточной Пруссией, а
мы, семьи, остались на своих квартирах, чтобы не
возникло подозрений, и знали только, что отцы и мужья
ушли в лес.
В возникшей, тем не менее, сумятице только в 14 час.
22 июня нам была поставлена боевая задача, уничтожить
противника, наступающего от Таураге на Шауляй. После
марш-броска под ударами немецкой авиации мы
сосредоточились в исходном районе около Кейданяя. На
марше были потеряны часть техники и возимого запаса, и
поэтому в бой мы вступили 23 июня с опозданием, но
вступили.
Немцы после легких побед в Польше и Франции совсем не
ожидали от нас удара: наши устаревшие и слабо
бронированные, вооруженные 45-мм пушками БТ-7 и Т-26
оказались более маневренными и били по бортам с
расстояния 300-400 метров их Т-IV с более мощной лобовой
броней и 75-мм пушками. Немцы у нас на глазах горели и у
нас на глазах отступали, и такой радости я потом никогда
больше не испытывал. Все, кажется, сбывалось: мы –
сильные, опытные, удачливые и будем их бить на их же
земле! Ох, как нескоро и через сколько потерь и
страданий это действительно начало сбываться…
Это было одно из трех встречных танковых сражений
первых дней войны, наряду с боями в Молдавии и под
Луцком. Кстати, под Луцком мехкорпусом командовал К.К.
Рокоссовский, под Шауляем 28-ой танковой дивизией
соседнего 12-го мехкорпуса, наступавшего с
северо-запада, – И.Д. Черняховский, чьи имена за войну
узнала вся страна. Удары с юго-востока и с северо-запада
не были одновременными, но танковые дивизии 3-го и 12-го
мехкорпусов сильно задержали выход танков генерала
Гепнера к Шауляю. Из 4-х танковых дивизий двух корпусов
в контрударе участвовали только две, а две другие
командование 11-ой и 8-ой армий, в подчинение которым
были переданы мехкорпуса, использовало иначе, чем было
спланировано во фронтовом масштабе. Контрудар к 25 июня,
в конечном счете, захлебнулся из-за отсутствия горючего
и боеприпасов и незнания обстановки вышестоящим
командованием, лишенным связи с дивизиями, и перешел в
арьергардные бои.
Мы отступали почти пешком и узнали, что с 25-го идут
кровопролитные бои под Ионавой, где остались наши семьи.
Они не утихали до 27-го. Это отступившая туда пехота
давала возможность оставшимся тылам нашей 11-ой армии
уйти за Двину и к старой (до 1939 г.) границе, где все
очень надеялись на прочную оборону. Это не оправдалось,
и пришлось отступать дальше с боями через Остров, Старую
Руссу до самого Валдая.
 А
в те первые дни наш автобат напрасно метался к местам
расположения складов и постепенно погибал под бомбежками
и просто от охоты «мессеров» за отдельными машинами.
Ничего в нашем тылу уже не было, не было и вторых
эшелонов, которые должны были нас поддержать. А потом,
когда выяснилось, что никакой обороны на старой границе
нет, нас, обстрелянных, но почти без техники, стали
отводить в резерв и превращать в пехоту, которая должна
была прикрывать Новгородское направление.
А
в те первые дни наш автобат напрасно метался к местам
расположения складов и постепенно погибал под бомбежками
и просто от охоты «мессеров» за отдельными машинами.
Ничего в нашем тылу уже не было, не было и вторых
эшелонов, которые должны были нас поддержать. А потом,
когда выяснилось, что никакой обороны на старой границе
нет, нас, обстрелянных, но почти без техники, стали
отводить в резерв и превращать в пехоту, которая должна
была прикрывать Новгородское направление.
При переправе через Двину мы ночью (кажется, с 27-го на
28-е июня) наткнулись в лесу на несколько грузовиков
нашего батальона, набитых женщинами и детьми.
Выяснилось, что дежурный, оставленный нами с тремя
машинами в Ионаве, под давлением женсовета,
отказавшегося отстреливаться из подвалов штаба, приказал
вывезти наши семьи, а сам остался на своем посту. В ту
ночь я обнимал сына и жену в последний раз, надеясь еще,
что скоро все образуется. Однако начальник штаба,
старший лейтенант Герман Кормщиков, сказал своей жене,
чтобы она пробиралась на родину к матери в г. Халтурин
Кировской области и взяла мою семью с собой, т.к. в
Белоруссии немец уже вышел к Минску.
Наш грузовик пришел в Полоцк, отстав от других, когда
станцию почти непрерывно бомбили. Моя мать, одев
отцовские плащ с лейтенантскими петлицами и пилотку,
добилась от начальника станции, чтобы всех погрузили в
товарный вагон и отправили вместе с угоняемыми на восток
паровозами. Так мы попали сначала в Орел, тоже уже под
бомбежкой, потом в еще совсем мирный Сталинград, где
после санпропускника, бани и вкуснейшего обеда
погрузились на пароход и с пересадками добрались по
Волге, Каме и Вятке до Халтурина. Там родилась моя
сестра Рема, и мы прожили до осени 1946 г., когда отец
забрал нас в Германию. Но вернемся к его рассказу.
За воспоминаниями я даже забыл, что нахожусь на
гауптвахте, как вдруг снаружи раздался какой-то шум, по
землянкам забегали штабные, и тут же просочился слух,
что в армию приехало какое-то не совсем обычное, но
«высокое начальство». Я скис, решив, что настало мое
время. Хотя, зачем для этого понадобилось «высокое
начальство»? Однако вскоре все-таки появился конвоир, и
меня повели, разрешив накинуть на плечи полушубок…
Что мне еще добавить? В течение нескольких минут судьба
моя опять круто повернула самым чудесным образом. Дело в
том, что «высоким начальством» оказался Член Военного
совета соседней армии. Приказано было из-под земли
достать старшего лейтенанта В.М. Байдова, в связи с
ходатайством Военсовета соседней армии о представлении
его к Ордену Красной Звезды за проявленную в сложной
боевой обстановке самостоятельность, способствовавшую
решающему тактическому успеху в тяжелом бою. Вот так, и
не больше, и не меньше! А я – тут рядом, только без
погон и ремня. Завидев меня, Член Военного совета хотел,
наверно, меня обнять, полушубок соскользнул с плеч, и он
все сразу понял, пожал мне руку, сказал еще что-то
ободряющее, но я плохо понимал происходящее.
Вдруг из-за спины генерала ко мне бросается тот самый
капитан-танкист, снимает свой ремень с портупеей,
опоясывает меня, снимает свои танковые капитанские
погоны и пристегивает их мне. Я пролепетал, что там – на
звездочку больше, что я – не танкист, наверно, еще
что-то в том же духе, но меня уже никто не слушал. Все
были чем-то другим возбуждены, куда-то звонили, решая
срочные дела, по каким, собственно, и встретилось
начальство двух армий после ликвидации немецкого
прорыва.
Когда я, придя немного в себя, вернулся в полк, мне
сообщили, что получен приказ о моем награждении,
повышении в звании и отпуске на неделю к семье, как
позволит обстановка. Обстановка позволила в разгар
весенней распутицы…

Вот почему я, семилетний мальчишка, прогуливался за
руку в день моего рождения по вятскому городку Халтурину
с отцом-капитаном, приехавшим прямо с фронта, на груди
которого блестел боевой Орден Красной Звезды. Я был
очень горд, а мальчишки с нашей улицы после этого
перестали со мной драться. Конечно, я тогда и не
догадывался обо всем, что здесь было рассказано…
Отец мой, гвардии капитан Байдов Василий Матвеевич,
закончил войну в Берлине, дойдя до него в составе той же
3-ей Ударной армии, водрузившей Знамя Победы над
рейхстагом. Он вышел в отставку в звании майора в 1957
г., умер в возрасте 74 лет и похоронен, как теперь
говорят, на этнической родине, на сельском кладбище под
Минском. В Минске живут моя сестра Ремальда с мужем
Дмитрием Стрельским, тоже сыном офицера-участника войны,
и их большая семья, включающая двух внуков и двух
правнуков моего отца. А могилы наших отцов и матерей
рядом – на одном кладбище, в белорусской земле…
Пусть нашим отцам и дедам, будет вечная память в сердцах
потомков, и пусть ничто не затмит их Подвига во славу
Отечества и ради нас с вами, и наших детей, и наших
внуков. Они сполна заплатили за Победу и жизнями, и
кровью, и потом!
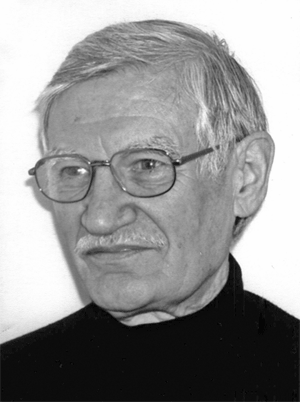



 А
в те первые дни наш автобат напрасно метался к местам
расположения складов и постепенно погибал под бомбежками
и просто от охоты «мессеров» за отдельными машинами.
Ничего в нашем тылу уже не было, не было и вторых
эшелонов, которые должны были нас поддержать. А потом,
когда выяснилось, что никакой обороны на старой границе
нет, нас, обстрелянных, но почти без техники, стали
отводить в резерв и превращать в пехоту, которая должна
была прикрывать Новгородское направление.
А
в те первые дни наш автобат напрасно метался к местам
расположения складов и постепенно погибал под бомбежками
и просто от охоты «мессеров» за отдельными машинами.
Ничего в нашем тылу уже не было, не было и вторых
эшелонов, которые должны были нас поддержать. А потом,
когда выяснилось, что никакой обороны на старой границе
нет, нас, обстрелянных, но почти без техники, стали
отводить в резерв и превращать в пехоту, которая должна
была прикрывать Новгородское направление.